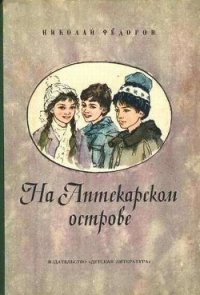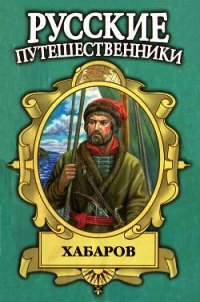Ради братий своих… (Иван Федоров) - Овсянников Юрий Максимилианович (лучшие книги .txt) 📗
— Почему без ведома владыки книгу сию печатать начал? Кто повеление дал?
Еще покряхтел, посопел немного, утер пот с загривка и добавил:
— Смотри, Федор, до беды недолго…
И медленно, тяжело понес себя к выходу.
С того дня все и началось. Назавтра пополз по Москве слух, что движется из Польши моровая язва. Будто уж в Вязьме она. И нет от той язвы никакого спасения. Сначала чернеет человек, а потом помирает. На торгу враз исчезли уксус и душистые травы. Богатые купцы позакрывали свои палатки, а кое-кто уже начал собирать домашний скарб.
Потом бирючи на площадях прокричали указ: дабы не допустить моровую язву в столицу, у Можайска поставлена застава и велено стоять накрепко, не пуская никого ни в Москву, ни из Москвы. А на посаде за Москвой-рекой, в Кадашах, уже объявились первые больные. Колодники железными крючьями вытаскивали почерневшие трупы из домов, сваливали их на сани и везли за город, за Даниловский монастырь.
К самому концу декабря занемогла Дарья. Начался у нее жар, впала в беспамятство и все звала, звала Петеньку и Ванятку идти в лес гулять. Федоров поил жену настоем из трав, прикладывал снег ко лбу, обтирал уксусом. Наутро горячка перекинулась на младшенького, на Петеньку. Тогда одел Федоров потеплее Ваню, дал ему в руки узелок с едой, наказал:
— Беги, сынок, к дяде Пете Тимофееву, пади ему в ноги, проси слезно от меня и от себя, чтобы взял тебя на время… Ну а если уж побоится, то беги тогда на Печатный двор, в правильную палату, запирайся изнутри… Вот ключ… держи. Да не потеряй, смотри… И никого к себе не пускай… Жди меня там…
Подтолкнул сына к воротам, а сам заторопился в избу, к больным. Ему самому тоже недужилось, но он знал, что никто не придет ему на помощь, а жизнь жены и сына зависит только от него. И снова варил он настой из трав, поил больных, обтирал их уксусом и менял холодные повязки на лбу. Ничего не помогло. На третий день к вечеру Дарья померла. В одночасье скончался и Петенька.
Он не дал их тела забрать крючникам. Сам ночью на салазках вывез на дальнее кладбище и похоронил. А потом целый день просидел один в нетопленной избе…
Верный Петр Тимофеев приютил Ваню и уберег его. Потом Петр еще неделю отхаживал закаменевшего, молчаливого Федорова. Отошел он и заговорил только после того, как ученики отвели его на Печатный двор. Здесь, в палатах, где так привычно пахло краской, металлом, бумагой, деревом и кожей, кажется, чуть-чуть потише стало его горе.
И месяца не прошло с похорон Дарьи и Петеньки, как вновь пожаловал на Печатный двор дородный митрополичий боярин. Ухмыляясь, объявил он повеление митрополита Афанасия:
— Так как Иван Федоров, диакон храма Николы Гостунского, ныне овдовел, то быть ему диаконом более не можно и надлежит постричься в монахи, выбрав, с нашего милостивого разрешения, монастырь по собственному желанию, а исправлять ему государеву и митрополичью службу при Печатном дворе не должно.
Знал Федоров, что такое может случиться: вдовцу не положено быть дьяконом, но еще надеялся… И вот конец! Все…
Боярин между тем, переведя дух, продолжал:
— Еще надлежит тому Ивашке Федорову объяснить подробно, почему самовольно начал печатать книгу «Часослов» и почему отлична сия книга печатная от многих книг рукописных.
Вот в чем дело! Но он же исправил только явные, несуразные ошибки переписчиков…
— А еще должен сей Ивашка отдать крамольные письма еретика Максима Грека, которые у себя прячет.
Когда-то, после смерти умного и просвещенного владыки Макария, он думал, что ему, Ивану Федорову, припомнят дружбу с Максимом Греком, философом, но за повседневными заботами позабыл, успокоился. А день настал. Ничего не остается делать, как согнуться в низком поклоне и выдавить из себя:
— Слушаюсь, боярин…
Только день на том не кончился. К вечеру, когда все в безмолвии, не зажигая свечей, сидели вокруг Федорова в правильной палате, раздался настойчивый стук в ворота. Прознать, кто там, побежал Никифор. Через минуту в палату ввалился краснорожий опричник:
— Кто есть государев печатник Ивашка Федоров?
— Я Федоров, — он поднялся навстречу детине. Помедлил и, повернувшись к Андронику, попросил: — Запали свечи. Гостя встречаем.
— Не гость я… Повелел тебе наш милостивый царь и государь быть у него в слободе в понедельник, через четыре дня…
Кто же сказал, что первую половину пути думаешь о том, что оставил, а вторую о том, что тебя ждет? Вот уже показались купола Троицкого монастыря, значит, две трети пути проехал, а все не уходят из головы мысли о прошлом.
Здесь, в монастыре, он заночует. Здесь молитвой помянет умерших Дарью и Петю. Здесь соберется с силами перед неведомой встречей с царем.
В Александровской слободе

Высокие дубовые стены, окружавшие новый дворец Ивана Васильевича и массивный Покровский собор, были снаружи одеты кирпичом. Для красоты и прочности. Со стены на пришельцев глядели черные жерла пушек. У ворот стояла еще одна застава. Здесь расспрашивали Федорова и рылись в его котомке здоровые, дышавшие винным перегаром опричники.
От ворот к высокому крыльцу дворца вела мостовая из дубовых плах. Мимо конюшен, погребов, мимо клеток с голодными медведями.
Два опричника, став по бокам печатника и не спуская с него глаз, повели Федорова на второй этаж, откуда слышался громкий смех и разговор множества людей. Там, в большой зале, толпилось сотни полторы разнаряженных опричников в шитых золотом кафтанах. И лишь у дверей стояли безмолвные воины с серебряными топориками на плечах.
Один из опричников, что был при Федорове, подошел к часовым, что-то шепнул, приоткрыл дверь и скользнул в щель. Печатник остался ждать, а вокруг продолжались разговоры, смех и шутки, от которых у Федорова порой пробегали мурашки по спине.
Но вот дверь широко распахнулась, и в зале сразу наступила тишина. Федоров перешагнул невысокий порог.
Прямо против двери на простом высоком кресле сидел изможденный старик, одетый в черное монашеское одеяние.
«Боже мой, какой он старый, а ведь годами моложе меня», — первое, что подумалось Федорову.
Пристально, будто видел его впервые, вглядывался царь в Федорова. Потом раздался глухой голос:
— Встань! Подойди!..
Только тут Иван заметил, что в палате находится еще несколько человек в монашеских одеяниях, но подпоясанных саблями. Он сделал несколько шагов к трону и снова упал на колени. Вновь раздался глухой голос царя:
— Встань, Иван! Ты исправно служил мне верой и правдой. Мы довольны твоими печатными книгами… Знаю о горе твоем. Понимаю его, как отец понимает горе детей своих… Уповай на бога, Иван… А тебя гордыня обуяла…
Федорову показалось, что черные фигуры, стоявшие вокруг, приблизились к нему.
— Я — царь, твой государь, все дни в покаянии провожу, молю заступничества за всех вас, грешных. Гляди, раб…
Царь откинул капюшон, и Федоров увидел у него на лбу синее пятно…
— Всю ночь поклоны бью, а ты, смерд?
Теперь кольцо черных фигур стало еще уже.
— И жена с дитем умерла. Все за грехи твои, за гордыню, — голос царя стал громким, рокочущим. — А кто ты есть? Никто, червь земной… В монахи идти небось не захочешь… Честолюбив… Диаконом быть не можешь. Трудиться для блага моего теперь тебе тоже не положено… Так кто же ты?..
Иван Васильевич тяжело откинулся на спинку трона. По его бледному лицу ползли крупные капли пота. Он прикрыл глаза и застыл так. В палате стояла глубокая тишина, только сквозь дверь доносился глухой гул голосов. Наконец он очнулся.
— Оставьте нас…
И вмиг палата опустела, точно черные фигуры ушли сквозь стены.